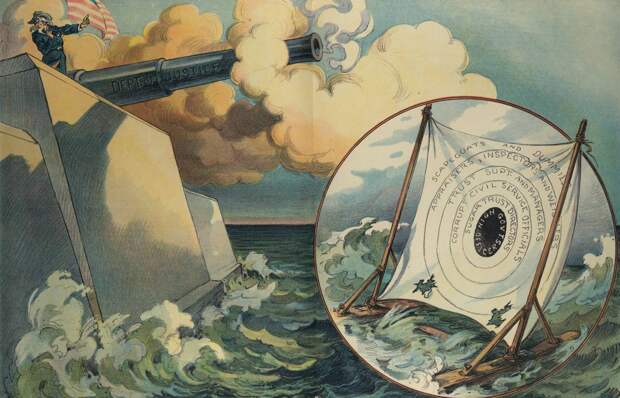
Вольфганг Штрек — один из наиболее известных европейских ученых, работающих на стыке социологии и политэкономии, почетный директор Института исследования обществ имени Макса Планка в г. Кельне. Основными направлениями научного интереса Штрека являются противоречия капитализма и демократии, эволюция демократии и кризисы глобального порядка.
На протяжении десятилетий он анализирует, как менялись социальные институты и политические системы, и почему привычные формы демократии все чаще оказываются под давлением. В своей недавней книге «Между глобализмом и демократией: политическая экономия на закате неолиберализма» немецкий ученый описывает процессы постепенной трансформации капитализма под воздействием неолиберализма с последующим становлением однополярного мира с Соединенными Штатами в роли гегемона. Однако, по мнению Штрека, такая формация изначально была не устойчивой, и постепенный крах однополярности приведет только к новым войнам. В интервью главному редактору журнала Jacobin Лорену Балхорну Штрек рассказал о своем понимании текущих мировых процессов и возможных путях развития событий в контексте ближневосточных конфликтов, российской спецоперации и усиливающейся роли БРИКС на мировой арене. ИА Красная Весна публикует сокращенный перевод материала. Вольфганг Штрек: Когда я сегодня говорю о демократии, я говорю о капиталистической демократии. Демократии в капитализме. Я начинаю с противоречий и трансформаций, через которые прошло это понятие. Отправная точка— либеральные революции в Великобритании и Франции, закон Ле Шапелье 1792 года. Там радикально запретили все промежуточные уровни общества. Существуют отношения только между гражданином и государством, и это называется демократия, не так ли? А далее мы видим, как в течение XIX века рабочее движение принудило к тому, чтобы было и что-то другое, а именно тарифные переговоры и забастовки, которые развились в право. И затем в Германии, в 1918–1919 годах, в Веймарской республике, в Веймарской имперской конституции впервые было разрешено не только существование профсоюзов, но и то, что государство не должно вмешиваться, когда они ведут свою тарифную борьбу. Таково историческое развитие событий. Сегодня, если кто-то занимается теорией демократии на уровне начала XIX века и просто смотрит — кто там избирается, кто имеет право голоса и так далее, — тот забыл, что современное понятие демократии, которое было отвоевано, включает в себя не только действия государства, но также имеет и второе измерение — то, в котором социальная борьба может вестись коллективно. Это тогда называется коллективной демократией, в отличие от буржуазной демократии. И это большое движение за демократизацию в капитализме — вплоть до 1970-х и 1980-х годов прошлого века — было связано с тем, чтобы закрепить этот промежуточный уровень автономного коллективного действия в конституции демократического строя так, чтобы его не могли разрушить ни рынок, ни государство. А сейчас мы находимся в точке 1980–1990-х годов, когда неолиберализм — нацеленный именно на это — прервал именно это развитие. Лорен Балхорн: Этот промежуточный уровень. Вольфганг Штрек: Да, депрофсоюзация. У государства в 80-х и в 70-х постоянно же стоял вопрос: как сдерживать инфляцию? Происходило это посредством того, что по-английски называлось Political Exchange или Scambio Politico в Италии, то есть профсоюзы проявляют сдержанность по поводу зарплат, но взамен получают что-то: например, более справедливую пенсионную систему. Лорен Балхорн: Да, то есть эта сделка была еще в 70-х? Вольфганг Штрек: Да, в 70-е, 80-е годы. Тогда нельзя было просто сказать: «Соблюдайте дисциплину», — или что-то в этом роде. Кейнс был заинтересован в том, чтобы кейнсианская политика не приводила к инфляции. Но у профсоюзов было достаточно силы при переговорах, чтобы ее спровоцировать. Если они действовали умно и были достаточно сильны по отношению к собственным членам, то использовали ее, чтобы требовать политических улучшений. Государство необходимо, но все зависит от того, какое государство? Кого оно слушается? Если обратиться к моим последним работам, в частности к книге о глобализме, всё исходит, собственно, из следующей ситуации: на конец 1980-х годов были разрушены как мировой, так и национальные порядки послевоенной фазы, «второе послевоенное соглашение» было разрушено. Коммунизм исчез, Восток открылся. Мир стал однополярным, он больше не был биполярным. И внутри государств началось (это началось раньше, но с того момента развернулось по-настоящему) то, что больше не было надобности в том, чтобы возиться с каким-то там коллективно организованным рабочим классом, когда дисциплинирование или, лучше сказать, встраивание труда в общественную систему может быть достигнуто намного лучше и дешевле, если предприятия подвергнуть интернациональной конкуренции. Тогда люди подчинялись сами по себе. Им можно было просто сказать: «Если вы здесь продолжите выдвигать ваши дурацкие требования, то мы можем и в Китай уйти». И тогда во всех странах демократического капитализма произошла эта, своего рода, смена полюсов: исчезновение промежуточного, квази-общественного уровня регулирования в пользу, с одной стороны, жесткого государственного вмешательства, как у Тэтчер, или, с другой стороны, жесткого рыночного вмешательства — неолиберализма, где проблемой всегда было «приспосабливайтесь к рынку», в то время как до этого все же еще преобладало представление, «давайте приспособим рынок к потребностям общества». Это было социал-демократической идеей, и это отмирание социал-демократизма можно было наблюдать. И тогда я сказал, гляну-ка я, что происходило в течение 30 лет однополярного миропорядка? 1990-й, старший Буш, новый мировой порядок до 2020 года, примерно, пандемии и затем войны и т. д. 2008 год — пик этого развития и начавшийся там кризис. В книге речь идет о том, что в течение этих 30 лет вновь и вновь восхвалялось: «Теперь у нас глобальный мир, он управляется глобально, есть G-7, G-8, G-10…» Я глянул, а чем же они, собственно, занимались? И оказывается, что эта безграничная дерегулированная экономика, в принципе, была экономикой одного единственного государства — а именно Соединенных Штатов. Так что иллюзия заключалась в том, что, мол, устраним государство отовсюду, и тогда будет больше свободы, экономической свободы. Что, ну я не знаю, все люди смогут ездить куда угодно. Но, по факту, не это было проблемой, а то, что одно государство смогло распространить свою собственную, специфическую экономическую традицию на весь мир, через Всемирную торговую организацию и т. д. Вы должны помнить, что в начале 1990-х Соединенные Штаты были настолько могущественны, что все резолюции, включая первую иракскую войну, принимались в Совете Безопасности ООН единогласно. Американцы спросили китайцев: «Хотите вступить во Всемирную торговую организацию?» И они ответили: «Да, с удовольствием, с большим удовольствием». А русские? Они были стерты в порошок. Полностью стерты в порошок. Ельцин был посыльным американцев. Это прекратилось только в 1999 году, с приходом к власти Путина. Поэтому они так обозлились на него и продолжают злиться до сегодняшнего дня, что он прекратил эту «замечательную интеграцию» России в единый мир. Лорен Балхорн: Можно ли концептуально отделить эти процессы от господства Соединенных Штатов или были бы они возможны без США как центра власти? Вольфганг Штрек: Нет, это было бы полностью исключено. И это нужно сказать со всей ясностью. Когда я ранее говорил, что эти понятия, эти модели необходимо обосновывать исторически, то в 1990 году в мире не было вообще никого, кто бы мог хотя бы отдаленно претендовать на роль глобальной силы, устанавливающей порядок. У них [США] была и идеология, которая у них есть до сих пор, и культурное влияние. Невозможно себе представить, что люди поют китайские поп-песни. Лорен Балхорн: Пока нет, но те, которые становятся популярными, звучат всё более по-американски. Вольфганг Штрек: По-другому вообще быть не могло. Тут необходимо сказать то, что [Карл] Поланьи и другие неоднократно очень хорошо описывали — капитализм нацелен на экспансию. О китайцах можно говорить все, что угодно, но китайское общественное устройство, если я это правильно оцениваю, не нацелено на экспансию, а на «мы тут хотим нашего спокойствия, и заниматься нашими делами, если кто снаружи полезет, получит по репе, но в остальном здесь спокойствие». Американский капитализм связан с универсалистской философией и самовозложенной обязанностью отправлять для всех в мире, с кем плохо обращаются, пару F-35, чтобы снова воцарился порядок. Такого рода миссионерское сознание нигде больше не встретишь. В этом смысле хорошо бы глянуть, что же собственно произошло за это время? В моей книге есть один раздел, в котором задается примерно такой вопрос: если сказать, что в наших обществах есть пять, шесть или семь больших проблем, то что же эти 30 лет внесли в решение этих проблем? И тут можно сказать, что «глобальное правительство» было крупнейшим техническим провалом в истории человечества вообще. Там я показываю разные графики. Ну, например, выбросы CO₂ — все выше и выше. Можно прям в диаграмму вносить: конференция в Осло, конференция в Париже, такая и такая конференция — и вообще ничего не меняется. Глобальное потепление — ничего. Государственные долги, задолженность граждан — вверх идут. И за 30 лет к этому еще добавилось социальное неравенство. Нам же эти неолиберальные экономисты постоянно говорили: «Это же замечательно. Сейчас средний доход в беднейших странах вырос с $1,89 (160 руб.) до $2,10 (175 руб.). Глянь-ка, они же уже выбрались из дерьма». И надо же себе еще представить ту наглость, с которой это продавалось! В тот момент, когда разразилась пандемия, стало ясно (можно было знать и заранее, мы, будучи левыми, это знали, мы должны были громче это говорить), что не доход на душу населения, а условия, общественные блага, чистая вода, доступность более-менее функционирующей системы здравоохранения — это делает страну богатой. А не та чепуха с рассчитанными среднестатистическими показателями. Все это мы бы могли сказать. Но люди не осмеливались. Они смотрели на статистику Всемирного банка: «О, да, может быть что-то в этом все-таки есть». Но там ничего не было. Итак, социальное неравенство [есть] как в крупных индустриальных странах, так и во всем мире, при этой чудесной глобальной экономике. Дело не в том, что в так называемых бедных странах нет богатых, просто их капитал уходит в американские гособлигации и в швейцарские банки, но не домой. И для этого мы создали глобальную открытую финансовую систему, к которой под давлением Всемирного банка должно были присоединиться каждое из государств. Это тогда называлось повышение конкурентоспособности развивающегося мира, когда тамошним инвесторам или владельцам капитала, перекупщикам, было предоставлено право все это добро тащить в Европу, вместо того, чтобы это задействовать на месте. Контроля за движением капитала больше не существовало. Лорен Балхорн: Еще один вопрос об американизации или глобализации: разве не является блестящим или гениальным в глобализации или американских элитах в этот исторический момент, что им удалось согласовать их интересы с интересами глобальных элит почти что во всех странах? ** Вольфганг Штрек: Абсолютно. Лорен Балхорн:И вот то, что ты только что затронул, что деньги богатых из бедных стран хранятся, к примеру, в США, в Швейцарии, и разница между сегодняшним днем и прошлым заключается в том, что, по крайней мере, часть элиты в некоторых частях мира больше не считает свои интересы совпадающими с интересами американцев? Вольфганг Штрек: Абсолютно! Моя книга — это же одно сплошное обращение: пока у вас еще есть добрая воля — прекращайте с этой ерундой. Просто гляньте на американскую систему образования. Я ведь 7 лет провел в одном из крупных государственных университетов [США], и всегда упускается из виду, что он входит в число лучших университетов мира. А эти университеты сосуществуют в этой стране с ужаснейшим средним школьным образованием. Почему? Потому, что вместо того чтобы вкладывать деньги в то, чтобы добиться, наконец-то, чтобы их старшие школы выпускали людей владеющих математикой, у них сильнейшие университеты, которые лежат поверх [школ], как, такие вот, комки жира на супе. Почему? А они либеральны, они берут людей со всех концов света. Но не только это. Идея в том, что эти привлеченные туда люди возвращаются в свои страны и руководят там филиалами американских предприятий. Они там потом социализируются, и эта элита потом покупает дома в Нью Йорке . Они братаются с американской элитой через эти элитные университеты. (А теперь Трамп, который этого не понимает, он теперь их всех вышвыривает.) Тут я могу лишь сказать — ну да, это может послужить объяснением, — что эта страна впускает [мигрантов] из собственных интересов, а не ради их блага. Они могли бы извлечь из этого какой-то урок, что у себя дома они бы тоже могли бы создать что-либо подобное. Они же не глупые. (Продолжение следует) glavno.smi.today
Свежие комментарии